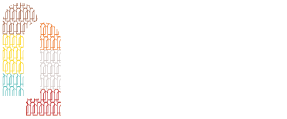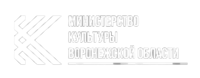СУДЬБА ИЗГОЯ
100 лет назад, 19 декабря 1916 года, в Москве родился поэт Николай Михайлович Якушев. В 1930-х годах он был одним из самых многообещающих молодых стихотворцев Воронежа. Однако арест по доносу в 1937 году, а затем 15 лет сталинских лагерей сделали его трагической фигурой отечественной словесности, так и не раскрывшей свой талант в полной мере.
«Его навязчиво преследовали «тюремные» сны, они тянулись за ним по пятам, – писал о Якушеве исследователь воронежской литературы Олег Ласунский. – Ушибленный однажды, он так и не сумел преодолеть в себе боязни перед карами, на которые так щедро родимое государство».
В Воронеж Николай Якушев приехал вместе с родителями в 1933 году. Поступил в местный лесотехнический институт, а через год перевелся на литературный факультет пединститута. Его стихи стали появляться в воронежской прессе – в многотиражке пединститута, в областной комсомольской газете «Молодой коммунар». А потом его арестовали. «Судьба моя человеческая, а, стало быть, и писательская, была запрограммирована в 1937 году. С этого года вся моя жизнь и деятельность была подчинена алгоритму человеческой подлости», – написал позже Якушев в своих дневниках.
В лагерях поэт работал на шахтах Колымы, валил лес в Архангельской области, перегонял плоты по Северной Двине, был землекопом, грузчиком, рабочим похоронной команды, санитаром. Последние годы перед освобождением провел в Волголаге под Рыбинском…. После смерти Сталина, в апреле 1953-го, Якушев был освобожден. Там, в Рыбинске, он и поселился. Как выяснилось, навсегда. При жизни выпустил семь книг стихов, стал членом Союза писателей. Но главные его книги вышли уже после смерти автора. В них были собраны неопубликованные стихи, дневники и письма поэта.
В Воронеж после лагерей Якушев приезжал один раз – в конце 1950-х. Он встретился с оставшимися в живых друзьями молодости, провел авторский поэтический вечер в редакции «Подъема». Во втором номере этого журнала за 1959 год появилась подборка его стихов. В том же номере было опубликовано и стихотворение Анатолия Жигулина.
Имена этих двух поэтов с той поры постоянно пересекались в прессе. Это и понятно: оба прошли ГУЛАГ, у обоих на всю жизнь остался страшный шрам на душе. Между ними возникла взаимная симпатия. Жигулин откликнулся в московской «Литературе и жизни» доброжелательной рецензией на якушевский «Старт» (где были и посвященные Жигулину строфы). Они стали поддерживать друг друга, о чем свидетельствует их многолетняя переписка, посмертно изданная в Ярославле.
В 1970-е годы тучи над Якушевым вновь сгустились. У него нашли известное письмо Солженицына писательскому съезду, и Николай Михайлович оказался, по его выражению, «на коротком поводке» у властей. Бывшему заключенному не простили сочувствия писателю-оппозиционеру. Выпуск уже подготовленной к печати книги был остановлен. На собрании ярославской писательской организации рассматривался вопрос об исключении его из Союза. Ограничились строгим выговором. Но сверху уже поползла по партийной линии телега. Его выгнали с работы. Якушев остался без средств к существованию. А ведь у него была семья, двое сыновей. Только в 1973 году вышла его книга «Вторая половина дня», поэт, наконец, устроился работать грузчиком, но до самого конца жизни над ним висело подозрение в ненадежности, представление как о затаившемся враге…
Смерть Николая Якушева в апреле 1983 году была нелепой и остается загадочной. Вернулся домой со страшными болями в области живота. То ли сказались многолетние лагерные лишения, то ли кто-то ударил ногой. Он слишком поздно обратился к врачам и умер практически на операционном столе…
За несколько лет до этого Николай Михайлович Якушев записал в дневнике: «…Вот я прожил жизнь, и смерть ежедневно бродит где-то рядышком, напоминая о себе то сердечным спазмом, то полной расслабленностью на несколько дней. И что я увидел в жизни, какое сильное впечатление от этой прекрасной случайности, именуемой жизнью, унесу с собой в могилу?
Самое крупное событие в моей жизни – годы лагерей. Это для меня. Мне иногда бывает стыдно за это – ведь была еще и война. И здесь, как и всегда в психике человека, приходит утешающая мысль: мои пятнадцать лагерных лет, может быть, значительнее всех событий, происшедших за это время».
Николай Якушев (1916–1983)
Стихи из сожжённой тетради
Не просто усердия ради,
мне память назад выдаёт
стихи из сожжённой тетради
за тридцать растоптанный год.
Лесной исправительный лагерь
У северной речки Кулой…
Тетрадь из случайной бумаги
я сшил самодельной иглой.
В неё я писал не шедевры –
тревожно и часто дыша,
про всё, чем натянуты нервы,
про всё, чем болела душа.
Я был не пророк, не оракул,
не слышался в строчках металл,
когда их друзьям по бараку
вполголоса ночью читал.
Не то что солгать иль слукавить –
сказать полуправду не мог…
Я прятал кричавшую память
в матраса прессованный мох.
Охрипший от горя и жажды
и всё же судьбу не кляня,
хоть знал, что конечно не каждый
дотянет до светлого дня…
Метель по неделям кипела,
и стужей калёное зло
берёз перезябшее тело
причудливой свилью свело.
А мы молчаливо и строго
творим перекур на снегу
в бушлатах двадцатого срока,
пошитых на «рыбьем меху»,
в бахилах из бросовой ваты…
Но греет, как бритва остёр,
забористый дым самосада
да рыжий приятель – костёр.
Сильней, чем огонь и одежда
и скудная наша еда,
Великое слово – Надежда,
тебя согревало всегда.
А тех, кто не верил:
– Едва ли…
в неласковой мёрзлой земле
мы на три штыка зарывали
в казённом нательном белье.
И всё-таки больше иного
спасло нашу совесть и жизнь
товарища доброе слово,
великое слово «Держись!»
Стихи из сожжённой тетради
не выдалось мне уберечь –
при обыске их надзиратель
торжественно выбросил в печь.
И видно, не веря идее
целебного свойства огня,
лечил графомана «в кондее»,
«вытряхивал дурь» из меня.
***
Вот и всё!
На карнизе, под крышей,
над паденьем повисла вода.
Я поднял воротник и вышел,
чтоб сюда не прийти никогда.
Падал снег.
Я хотел быть резким.
Я хотел засвистать – и не мог.
И окошко твоё с занавеской,
отражённое, блекло у ног.
Вот и всё.
Так любовь кончалась.
Холодок пробегал по спине.
И фонарная тень качалась
на широкой кирпичной стене.
Что осталось?
Сказать со смехом,
что признанья мои – чепуха?
Я ушёл,
заштрихованный снегом,
а в окне твоём свет потухал.
1935, Воронеж
Станция Анна
Другу моей юности – поэту Арсению Кузнецову
Детства в солнечных пятнах
незабытые дни
не вернутся обратно,
как ты их ни мани.
Сколько здесь умещалось
и улыбок, и слёз!
И раздумье, и шалость,
и работа в покос…
В час холодный рассвета
голубела река.
Необычных расцветок
на заре облака.
Травы в трепетном росте,
и стрижи на лету,
и лиловые грозди
сирени в цвету.
Возвратить это снова,
повторить наяву
даже песенным словом
не дано никому.
Но однажды, нежданно,
посредине пути,
ты на станции Анна
должен будешь сойти.
И повеет поныне
чем-то очень родным,
будто пылью полыни,
будто ветром степным.
И припомнятся травы
вперемешку с росой,
колкий ёжик отавы
под ногою босой.
Ветер треплет украдкой
узкий лист ивняка,
с лебединой повадкой
плывут облака.
И идут пионеры
счастливой гурьбой…
Посмотри и уверуй:
детство снова с тобой!
Десятый вальс
Евгении Колесниковой
На самом утре
жизненных дорог
шли облака
с цветистыми краями.
Шопеновского вальса
ветерок
летел по лёгким клавишам
рояля.
Смешно,
что я полжизни берегу
тебя такой,
как в первый день потери.
Что жизнь прошла –
поверить я могу,
что ты прошла –
я не могу поверить.
Пока я жив,
ты будешь всё такой –
немеркнущей,
единственной в природе,
с застывшею
на клавишах рукой,
с тоскою
нерассказанных мелодий.
И до конца
моих земных дорог,
богатых болью,
дружбой, именами,
шопеновского вальса ветерок
пусть кружит пыль
моих воспоминаний.
1948
Берёзка
Рассвета скупая полоска,
за ветром летят журавли.
Напрасно за ними берёзка
стремится сорваться с земли.
В порывах подветренных мучась,
дрожит, как дрожит человек.
С землёй её горькая участь
корнями связала навек.
А ей бы свободу такую,
чтоб птицы догнать не могли…
И кто ей, смешной, растолкует,
что небо беднее земли,
что вся её радость на свете
и общее счастье со мной –
любить это небо и ветер,
навек оставаясь земной.
Останься земною, лесною,
до солнечных дней подремли.
А птицы вернутся весною,
им тоже нельзя без земли.
1949
***
Опять лесами бродит осень.
На сучьях вымокших осин,
на тёмных кронах медных сосен
висит заплаканная синь.
Листвы сырая позолота,
щетина ржавая хвои.
Сквозь буреломы и болота
тропинки тянутся мои.
И я иду, скользя по грязи
дождём иссеченных крутин.
Передо мной, пока без связи,
куски разрозненных картин.
Короткий взлёт пугливой цапли,
как бы застывшей на весу.
Брусники кровяные капли
одеты в знобкую росу.
Стоит рябина в яркой кофте,
берёз лимонно-жёлтый лист.
И корневищ железных когти
в суглинок намертво впились.
И эти корни, травы, тучи
скупая память соберёт,
чтобы хранить на всякий случай
и через жизнь нести вперёд.
Чтобы за сотни километров
тот край, с которым я знаком,
пахнул в лицо сентябрьским ветром,
лесным и влажным сквозняком.
1940-56
***
Чернила – не кровь, а строка – не душа,
но есть исключительный случай,
когда замираешь, почти не дыша,
в предчувствии редких созвучий.
В такую минуту, над словом склоняясь
в сплошном отрицанье покоя,
поймёшь ты – со временем держится связь
одной, неизбежной строкою.
Когда эту строчку ты всё же настиг,
и ей уже некуда деться,
то трудно понять, где кончается стих
и где начинается сердце.
***
Надоели коридорных трели,
суток бег от чая и до чая.
Хоть бы снег некстати лёг в апреле,
год от года как-то отличая.
Но апрель. И тихо грязь мешая,
бродит дождь походкою мышиной.
И почти ничем не нарушаем
ровный ход безжалостной машины.
Мир, как будто, за решёткой замер.
Тишина в ушах, как комья ваты.
Только ночью, в полусвете камер,
в сновиденьях стонут арестанты.
***
Сколько было их временем смято?
Как всё это осилить смогли?
Так я думаю: эти ребята
были подлинной солью земли.
Утопали по пояс в сугробах,
одолев и обиду, и боль,
и на жёстких брезентовых робах
проступала действительно соль.
Мы тайгу корчевали упрямо,
и, тебя я прошу, не забудь,
как стрелой довоенного БАМа
мы отметили трудный наш путь.
Не искали мы лёгкого места,
берегли мы рабочую честь…
Лишь с трибуны XX съезда
объяснили нам: кто же мы есть.
***
Это было на речке Кулой.
Мне теперь не припомнить фамилий.
По старинке – лучковой пилой
мы в делянке сосну повалили.
Видно падать обидно для всех.
И она свилеватое тело,
опираясь ветвями о снег,
от земли оторвать захотела.
Но ногой наступили – лежи!
И снежок обмахнув рукавицей,
мы пилили её на кряжи,
всю пропахшую острой живицей.
А она ещё, видно, жила,
когда в тело вцепилось железо,
проступала густая смола
через узкую ранку пореза.
Как оценка работы корней,
на разрезе, смыкаясь друг с другом,
каждый год был отмечен на ней
ростовым, концентрическим кругом.
И, прищурив наметанный глаз,
синеватые кольца считая,
не припомню я, кто-то из нас
с сожаленьем сказал: – Молодая…
В час, когда скараулит конец,
не покинь нас, желанье простое:
независимо – сколько колец,
умереть обязательно стоя.
***
Видно мы кому-то не потрафили,
не прижились в собственном дому. –
Говорить о трудной биографии –
это нам под старость ни к чему.
Нам дорога выпала иная,
вроде бы и не были в бою.
Я такой её припоминаю
юность безымянную мою.
Заменяли имя номерами,
вычеркнув надолго из живых.
Верьте, мы не хуже умирали,
чем ребята на передовых…
Стетоскопом в грудь меня толкая,
слушает он стон моей души.
Врач пытает:
– А статья какая?
– Пятьдесят восьмая.
– Не дыши!
Не дыши, не думай, не надейся.
Всё равно здесь – старый, молодой.
До чего ж похож я на индейца –
загорелый, как скелет, худой.
Врач, он мне по возрасту папаша,
говорит уверенно, легко:
– Ничего, ещё, браток, попашешь,
до конца довольно далеко.
Знаю сам, дела мои плохие –
может, даже этою весной,
слепота, пеллагра, дистрофия
притаились за моей спиной.
А страна в тот час врага громила
и совет давала мне простой:
– Я тебя вспоила и вскормила…
Слышишь? Продержись ещё, постой.
Эту боль давнишнюю не троньте:
нам винтовки не дали тогда.
Мы стояли, как стоят на фронте –
насмерть, на бессмертные года.
И товарищ мой, Серёга Левшин,
говорил в те тягостные дни:
– На виду стоять – оно полегше,
ты попробуй выстоять в тени…
Летний дождь
С утра ещё птицы об этом кричали,
но туча, казалось, пройдёт стороной.
А он, осторожный и робкий вначале,
обрушился ливня стеклянной стеной.
И сразу запахло корою смолистой,
ещё не остывшей от солнца травой.
А дождь нарастал, как рапсодия Листа,
такой же стремительный, звонкий, прямой.
С трудом изменяя характер строптивый,
он медленно, словно огонь, затухал,
возился в кустах придорожной крапивы
и вновь тарахтел по глухим лопухам.
На брызги с налёта дробился о камень,
рубил неповинные листья сплеча
и вновь клокотал и кипел под ногами,
как будто земля для него горяча.
И было такое желанье смешное:
забыть обо всём, с чем сегодня знаком,
разуться и узенькой тропкой лесною,
как в детстве, по лужам бежать босиком.
***
Не знаю, сколько ты ждала,
а, может, не ждала нисколько.
Но ты единственной была,
одна была, одна лишь только.
Но время – страшная беда –
оно свинцом на сердце ляжет,
и если скажет: навсегда,
то навсегда об этом скажет.
Листались горькие года,
летели яростно навстречу,
а ты исчезла навсегда,
я никогда тебя не встречу.
И не осталось ни следа –
одна тоска, одна лишь мука.
Ты понимаешь: никогда!
Какая долгая разлука!
***
Мальчик, играющий разноцветными раковинами
на берегу Великого океана,
Узник, ожидающий без всякой вины
приговора сурового тирана.
Юноша, впервые окрылённый любовью,
Неудачник, счастливый только во сне,
Музыкант, заплативший острою болью
за сладкую отраву элегии Масснэ.
Схоласт, извлекающий из древних фолиантов
пыльные истины о судьбах мира,
Пьяница, пропивающий остатки таланта
за грязною стойкой вонючего трактира.
Маленький каменщик великой стройки,
Отшельник, – презирающий шум бытия,
Несчастный, умирающий на тюремной койке…
Как странно, что всё это – Я.
***
Анатолию Жигулину
Случилось в жизненной карьере
в районе вечной мерзлоты
ломать в заброшеном карьере
седого мергеля пласты.
Морозом скованная глина –
как символ северной земли.
Здесь ничего кувалда с клином
уже поделать не могли.
То место было знаменито
по песни каторжным словам…
Горячий выход аммонита
подножье сопки разорвал.
И вот на этом самом месте,
гремя обломками скалы,
зубатый ковш с породой вместе
над нами поднял кандалы.
Они свисали хищной плетью,
тугими звеньями звеня,
наследство прошлого столетья
в змеином облике храня.
Их кто-то сбросил при побеге
по этим гибельным местам.
Иглистым инеем навеки
пророс заржавленный металл.
А те, что гордо их носили,
ни слова боли не сказав,
с листов истории России
пытливо смотрят нам в глаза.
…Какой-то повинуясь власти,
опершись молча на ломы,
по молчаливому согласью
мы сняли шапки с головы.