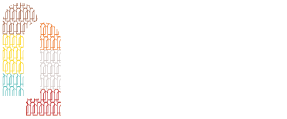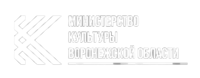ЛИДЕР
90 лет назад, 25 ноября 1926 года, в селе Танцырей Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне Борисоглебский городской округ Воронежской области) родился прозаик Виктор Михайлович Попов.
Он возглавлял воронежский литературный журнал «Подъем» больше, чем кто бы то ни был – 16 лет. Потом еще 13 лет был во главе местной организации Союза писателей России. Иными словами, он руководил воронежскими писателями и в тучное для литераторов время развитого социализма и в голодную безгонорарную постсоветскую пору. И – удивительно! – почти не нажил врагов. Абсолютно уникальный случай.
Думается, причина столь единодушного добродушия по отношению к фигуре Виктора Попова со стороны других писателей – характер Виктора Михайловича, его умение и талант быть нужным.
Евгений Новичихин, проработавший с В. Поповым долгие годы и в редакции «Подъема» и в Союзе писателей, вспоминает: «Его, даже в годы, когда он был уже далеко не молод, можно было постоянно видеть то на заводе, то в школе, то в клубе, то в студенческой аудитории, где звучало устное слово писателя в защиту русской культуры, в защиту родного языка, в защиту нравственности. Он неизменно избирался в состав руководящих органов Союза писателей России, а в последние годы жизни активно работал членом приёмной комиссии Союза, находясь у самых истоков, самых родников будущего русской литературы».
При всём при этом Виктор Попов был еще и самобытным писателем со своей личной темой. В воспоминаниях того же Е. Новичихина читаем:
«Когда задумываешься над тем, какое место занял Виктор Попов в воронежской литературе, нельзя найти для ответа лучшего слова, чем тривиальное: «особое». Место это и впрямь необычное. Если бы по воле критиков, наряду с понятиями «деревенская проза», «военная проза», «городской роман» и тому подобное, существовало бы и столь же условное понятие «железнодорожная проза» (а почему бы и нет, если издавна железная дорога в России – огромное государство в государстве?), то на этой литературной площадке Виктор Михайлович был бы не просто заметной фигурой. Он был бы безусловным лидером, а нередко – и единственным представителем своеобразного тематического направления. «Дорогой ценой», «Железо из земли», «Живая защита» «Встречные поезда», «Один выстрел во время войны» – в этих и во многих других романах, повестях, рассказах писатель предстаёт как глубокий знаток жизни железнодорожников. Эта жизнь долгое время была его собственной жизнью. Немало лет Виктор Михайлович проработал специалистом системы Юго-Восточной железной дороги, сотрудником ведомственной газеты «Вперёд», собственным корреспондентом знаменитого «Гудка». На скорых, пассажирских да пригородных поездах исколесил всю Россию. Заслужил звание «Почётного железнодорожника». Проблемы железной дороги были ему настолько близки, что его глаза всегда загорались молодым блеском, когда о них шла речь.
В то же время творчество Виктора Попова – яркий пример того, что деление литературы по тематическим признакам – не только из ряда условностей но и разряда тех отправных точек, от которых начинается весьма однобокое представление о том или ином авторе. В одном из биобиблиографических справочников о нём написано: «…вносит в книги дыхание нашего века технической революции. Но производство не поглощает его персонажей целиком. Их судьбы разворачиваются на широком психологическом фоне, в борении живых человеческих страстей». Верная по сути, оценка эта ограничивает творчество Попова определёнными рамками. Между тем писатель не раз показывал, что его творческие возможности шире любых рамок. В конце 60-х годов он написал, например, одно из лучших своих произведений – повесть «Циклон» рассказывающую о первых шагах советской власти в одном из уездных городов Центрального Черноземья. Созданная под влиянием Андрея Платонова, но основанная на документальных материалах, повесть эта, давно не переиздававшаяся, может оказаться в числе тех произведений, по которым станут изучать то сложное время.
Из ряда привычных представлений о писателе выходит и роман-памфлет «Дни покоя», переизданный позднее Воениздатом под названием «Взрыв». Извечные темы войны и мира, гуманизма и антигуманизма, противостояния добра и зла нашли в этом произведении достойное воплощение».
А ещё Виктор Попов – глубокий лирик, о чём свидетельствуют многочисленные его рассказы, которые он, время от времени, писал до самого конца своей жизни. Одну такую лирическую новеллу мы и предлагаем вашему вниманию.
Виктор Попов (1926-2009)
РОЗЫ ИЗ ТУРЦИИ
До рассвета далеко.
В тусклых бесформенных пятнах на потолке и на стенах Александр Иванович искал очертания фигур, напоминавших человеческий облик. Но таковых не находил. Когда же наконец стекла оросятся струями утра?!
До рассвета еще далеко. А будет ли нынче рассвет? Александр Иванович нехотя подошел к окну. Пасмурно. Небо придавило облака к земле и перемешало их; клубящиеся космы никли к деревьям у многоэтажных бетонных домов. Какой уж тут рассвет…
Он посмотрел на «кукушку», висевшую на кухне. Часы простенькие, верные и безотказные. День, конечно, наступил, только рассвета не было. Что ж, случается…
Небольшая разминка с гантелями, топтанье в холодной воде в ванной, медленное бритье, мимолетные взгляды в раскрытую книгу на тумбочке у телефона. «Моя философия не дала мне совершенно никаких доходов, но она избавила меня от очень многих трат». Да-с, и такое случается… Ваши слова, уважаемый философ; это вы написали, господин Шопенгауэр. У меня тоже никаких доходов, но и никаких предполагаемых трат. Не потому ли большое совпадение, что вы, господин Шопенгауэр, как и я, одиноки? Но вы обладали вздорным характером, достойным существом считали только свою собаку, значит, вы стали, скорее всего, жертвой этого самого характера. А у меня он, сказывают, вполне уживчивый, даже привлекательный. Правда, особой тяги к себе я не наблюдал ни со стороны студентов, ни со стороны бывших сослуживцев. Будто в подтверждение этого небезызвестная мадам Белова не пожелала быть рядом. Конечно, не без причины. Какой могла быть эта причина? Мой характер? Возможно, возможно… Но я не такой вздорный, как вы, господин Шопенгауэр. Думаю, все очень просто, если подойти без эмоций, с холодной головой: ты, уважаемый Александр Иванович, не нравился ей. Ну и зачем что-то придумывать, усложнять совершенно очевидное?
Каждое утро почти одно и то же. Прежде всего, конечно, – рассвет. Потом уж – чай, а когда позволяют финансы, – кефир; зачем рассуждать? Ведь не это главное! Основное время занимали воспоминания о недавней работе, о своем месте в науке и об этой, будь она неладна, о Беловой. Ведь не мальчишка, а вот… Хотя и не больно (уже не больно!), но из головы не выходит.
Давно размылось в памяти лицо красавицы Тани Беловой, но до сих пор он чувствует, что по утрам первые проколы солнечных лучей сквозь листву застарелого вяза рисовали на стенах именно ее – Таню, склонившуюся над книгой. Эти ломкие линии медленно расплывались, четкость терялась, и… он вставал с постели…
Сегодня у Александра Ивановича день особый – ему на дом принесут пенсию. До этого перечисляли на сберегательную книжку; если требовалось, он шел и снимал сколько нужно. Сбережений становилось меньше и меньше, он ругал разгулявшуюся инфляцию, затянувшийся кризис и так называемые свободно скачущие цены. Ругай не ругай, а лучше не становилось.
Дожил до критического момента и закрыл свой счет. Приехали. Точка. На книжке пусто. Вот и подал заявление, чтобы пенсию доставляли на квартиру, нечего возиться с пустой сберкнижкой и выстаивать в очередях за своими же деньгами. Александр Иванович не огорчился, а подошел к такому явлению философски: не его одного одолел финансовый голод. Кого ни спроси из своих знакомых – одно и то же.
Ты молодец, Белова, твоя красота великолепно отвлекает от житейской непогоды. Былая красота. Конечно, – былая, ведь ты давно в столице, в Москве.
Он убрал посуду со стола. И стал ждать первого визита почтальона. Может, это пенсионер. Подрабатывает, небось, жизнь заставила, сейчас много таких. Может, кто из числа интеллигентов-безработных, наконец-то нашедших хоть какой-то источник существования. Да мало ли кто; в общем – почтальон в эпоху кризисной России, во время так называемого перехода от развитого социализма к лучезарному капитализму. Черт-те что, всё нынче шиворот-навыворот… Вы, господин Шопенгауэр, болели за свои доходы, за бережливость в тратах. Конечно, переживали, коли сочли необходимым сказать об этом в своем трактате.
А нам сейчас нелепо рассуждать о каких-то доходах. Прямо-таки – миф, эти доходы. В разном положении оказались мы, господин Шопенгауэр…
Александр Иванович отодвинул книгу, освободил место у телефона. Почтальону потребуется площадка для своих бумаг, для той же ведомости, где придется расписываться в получении денег.
И тут – звонок.
Так и знал – почтальон, точнее – почтальонша. Высокая, правильные черты лица, четко очерченные брови над большими темными очками. Прежде всего, брови привлекли внимание Александра Ивановича. «Надо же! Как порою люди могут походить друг на друга». Нечто подобное уже встречалось. Кажется, ничего особенного, просто размашистый полет бровей. Где он видел? когда? почему запомнилось? Подумал, но ответа не стал искать. Прожил достаточно, видел многое, всего не запомнишь.
Он предложил тумбочку у телефона. Она поблагодарила: дело минутное, и не стоит натаптывать ковровую дорожку, ведь у профессора некому убирать, а расписаться за деньги можно и здесь – у двери. «Некому убирать… профессор… Ишь, как много знает. Ничего удивительного, почтальоны во все времена много знали о своих подопечных».
Но, странно, почтальонша не собиралась доставать деньги, пенсионную карточку, ведомость или что там еще. Она стояла у двери и смотрела на Александра Ивановича. Серенький платок на гладких волосах, синяя форменная куртка почтового работника, суконные ботинки «прощай, молодость». Это понятно, в них удобно – весь день на ногах. Стояла и смотрела на него.
Александр Иванович засмущался, чувствуя, что у него что-то… не так.
– Я… в пижаме… Извините…
– Что вы, Александр Иванович. Вы – дома. Вот у меня… Вот меня за мою одежду извините – работа…
– Понимаю, понимаю. Все ж как-то… непонятно.
– Александр Иванович, вы не узнали меня?
Он вновь уставился на ее размашистые брови. Конечно, хорошо памятны… Где? Когда?..
Почтальонша сняла очки. Глаза были уставшими, но… радостными.
– Боже мой! Рудницкая!.. Вера!.. Простите меня. Зачем очки? Половину лица скрывают!..
– Это не декорация, Александр Иванович. Теперь – требуются.
Он засуетился, из кухни принес табуретку, вернулся и притащил стул.
Тут же подумал, что гостью неудобно держать у двери. Пришла мысль: нескладно бегает! Какой же он старый…
– Не беспокойтесь, Александр Иванович, я сейчас уйду.
– Никуда не уйдете! Не отпущу!..
Почтальонша засмеялась. Александра Ивановича словно током пронзило: лучистый веер! колокольчик!..
– Не отпущу! Раздевайтесь. Попьем… У меня чудесный чай. Куплен по случаю. У нашей трамвайной остановки, на раскладушке. Смотрю – надо же! – настоящий, цейлонский.
Он вытянул руки, принимая куртку. В былые времена вот так же принимал на званых приемах английское пальто мадам Беловой. Почтальонша опять засмеялась.
– Не беспокойтесь, на мне вовсе не норковая шуба.
– Что есть, то и есть, уважаемая! Чем богаты…
Ему показалось, что вспышка джентльменства получилась напускной, чрезмерной. А почему – вспышка? Он всегда – джентльмен, так говорили в институте. И все же… Это – Вера, Рудницкая, ее надо знать; одна неверная нота – и симфония исчезнет.
– Я не очень назойлив? Извините, если что-то не по душе.
– Александр Иванович, мы не на кафедре, к тому же – у нас все давно определилось…
Вот оно… Определилось! Он бы не посмел вот так – напрямую. Значит, ей было трудно, вот почему осмелилась.
Александр Иванович открыл холодильник. Как нарочно – ничего! Сходил на балкон: какие-то сморщенные яблоки, вчерашняя котлета… Хотелось как лучше, но ничего не получится.
За столом около холодильника было уютно. Вера медленно прикладывалась губами к чайной чашке и осторожно осматривала кухню. Чисто. А все же явные следы угасания. Стекло шкафа с посудой тусклое, абажур над лампочкой бесцветный, тюлевая занавеска, наверно, была накрахмалена, но тоже… не совсем свежая…
– Вы угощаете меня чаем… – Она улыбнулась, будто изумленная цветами на обоях. – Когда-то я не могла даже подумать о таком…
– Неужели я… свирепый? Преувеличиваете, Вера, таким я никогда не был.
– Вовсе не свирепым… Недосягаемым!
– О-о, куда шагнули… Ничего недосягаемого нет и не было.
– Я об этом не знала.
Не слишком ли?.. Не могла не знать. Святая ложь?
Было: он оказывал внимание, да еще какое! Когда не видел ее на кафедре, то устраивал скандал: где? надолго ли? Почему заведующий не в курсе? Но только Вера появлялась, тут же гасла необходимость ответа на горячие вопросы. Она гордо поднимала голову, смотрите – обиделась, но уходила в свою комнату с улыбкой. Бывало кое-что другое, многое бывало. В то время он уже подумывал… Сначала объяснение с Верой, потом – предложение стать его женой…
Но вот – Белова… Как только появилась она, как только состоялась их первая беседа… Искра! Молния!.. Нет, все – не то. Она учинила погром в душе. И Рудницкую как бы отгородила прозрачной ширмой: кое-что различимо, а все же ничто не воспринималось.
Нет, не так было. Он, кажется, выбирал: Белова или Рудницкая? Неужели выбирал? Он же знал, что Белова замужем. Почему позволил так вести себя? Если бы знать… Наверно, не мог иначе. Не мог! Вот и все. А что получилось бы, если бы… Ну что иное могло получиться?
Уже потом – потом опять увидел Веру, то есть видел ее каждый день, но по-настоящему увидел только после отъезда Беловой. Вежлива, невозмутима, до того невозмутима, что хотелось учинить скандал. В свое время он будто бы имел на это право, а теперь…
Нет, не выбирал он, просто не мог по-иному.
И все же сотворил по отношению к Рудницкой что-то непростительное. Мужчина, а – раскис под напором красоты. Впрочем, может, потому все и произошло, что он все-таки мужчина, а не какая-нибудь закоченелая деревяшка.
Не сфальшивил!
Белова просто вытеснила Рудницкую. Скорее всего – так…
Вера с деликатной осторожностью поставила чашку перед собой и потерла лоб. Смотреть на Александра Ивановича стеснялась, а сказать – сказала, превозмогая себя:
– Вы тогда были от Беловой без ума. Я это видела… Вся кафедра видела… О какой уж тут досягаемости…
У Александра Ивановича перехватило горло, он закашлялся, вынул платок из кармана пижамы.
– Было такое. Легкомысленный, не скрываю… Иногда не хватает мозгов отличить подделку от подлинника.
– Нет, вы были вовсе не легкомысленным. Вы очень верный человек! – Она мечтательно скользнула взглядом по седому чубу склонившегося над столом Александра Ивановича. – Очень… верный.
– Я?!
– Да, Александр Иванович. Верны своему чувству. Не Тане Беловой, не любой другой женщине, а – своему чувству. Это, может быть, важнее. Не знаю, не мне разбирать.
– Гм-м… Философия. Но, знаете ли, интересно… Не ожидал. Чего это вы вдруг?
– Надо же когда-то сказать, другой возможности у меня может не быть. Вы только не обижайтесь, Александр Иванович. И не удивляйтесь моей радости. Я сейчас как счастливая дурочка, не знаю почему.
– Это вы напрасно. Дай Бог, чтобы все женщины были такими дурочками.
Александр Иванович встал, потянулся к холодильнику.
– У меня, помнится, где-то – сыр, колбаса…
– Не беспокойтесь, пожалуйста! Я сейчас уйду, деньги надо разнести. Я о деньгах забыла…
Она раскрыла хозяйственную сумку, порылась в ней, показала, в какой строке небольшой желтоватой карточки расписаться. Отсчитав деньги, задумалась. Пока Александр Иванович ходил за очками, добавила несколько бумажек.
– Вера, я всегда знал вас, как человека… безупречного. Не думаю, что вы изменились с тех пор, как ушли с кафедры. Теперь-то вы можете назвать причину ухода?
– Из-за вас, – сказала твердо и спокойно. Даже не смутилась. Облегченно вздохнула, будто завершила обременительное, но неотложное дело. – Теперь вы все знаете. Только – зачем говорю? Вот уж сама не пойму. Наверно, – надо?..
Вера опять взяла чашку и не торопясь начала пить маленькими глотками, хотя чай уже остыл.
– Непонятно, Александр Иванович, почему вы так решительно расстались?
Режет по зарубцованному. Что он скажет? Что можно сказать?
Белова успешно защитилась. Вечером в ресторане гостиницы «Славянская» чета Беловых устроила банкет. Помнится, Александра Ивановича удивило множество военных: муж Татьяны – высокий белобрысый майор с широким громовым голосом, рядом с ним еще две местные военные пары. Но если бы только эти пары! Другую сторону праздничного стола занимали сплошь полковники и подполковники и даже – генерал. Как потом стало ясно из разговоров, все из Москвы, из высоких слоев; они специально к этому дню дружно пожаловали в командировку.
Тосты, тосты… За новоявленного кандидата наук, за супруга, который способствовал ее успеху, за научного руководителя, то есть – за Александра Ивановича. Шампанским залили банкетный зал. Включили музыку, первым, конечно же, с героиней бала пошел танцевать единственный в зале генерал. Он был еще молод, от коньяка щеки его алели, глаза маслились, когда прижимал партнершу.
Белова никого не видела и ничего не слышала. Она покусывала напомаженные губы своими сахарными зубками, когда встречала расшалившиеся глаза генерала.
– Я устала… – донеслось до Александра Ивановича.
Как с потолка, навис ее муж.
– Сходи… отдохни! – громогласно вывалилось из его горла.
Генерал изъявил готовность проводить в свой номер: удобно, вполне приличный «люкс»… Она не ответила, только повела плечиком, освобождаясь от его рук, и молча направилась к двери.
О героине вечера и о генерале быстро забыли, словно их вовсе не было. Офицеры «сражались», лихо поднимая друг перед другом бокал за бокалом почему-то обязательно на тыльной стороне ладони, кого-то «штрафовали» внеочередным вливанием коньяка, кого-то заставляли отбивать чечетку при выключенной музыке. Снова садились за длинный стол, сдвигая белую скатерть с расплывшимися пятнами красного вина и огрызками фруктов.
Она вернулась побледневшей, с грубой полосой румян на одной щеке, другую щеку второпях забыла подкрасить. Генерал напустил на себя важную серьезность, ни на кого не смотрел. Порою по его скользким губам проплывало самодовольное удовлетворение. И сразу в наступившей тишине он произнес тост.
– Я узнал… Наша героиня была намерена, как она выразилась, рвануть в строй докторов наук. Пожелаем успеха! Наше дело – подставить плечо. Ура-а!..
В зале грохнуло, зазвенело, забулькало. Александр Иванович боком, чтобы никого не задеть, выдвинулся из-за стола. Его ухода не заметили.
На другой день он появился на кафедре раньше обычного и распахнул дверь своего кабинета. Насупленный, с дробно стучавшей по столу авторучкой в руках, дождался легких, кокетливых шагов в коридоре. Еще не видя Белову, крикнул:
– Зайдите!
Она остановилась в дверном проеме. Взглянув на профессора, склонила головку и повела бровями, – можно и зайти.
– Думаю, что наука, я имею в виду и нашу совместную научную работу, не объект для упражнения пьяных… для пьяных речеиспусканий.
Белова молчала. Ее пальцы натягивали и отпускали черный ремешок сумки из крокодиловой кожи.
– Вы, оказывается, хотите… рвануть в доктора?
– Я… я не хочу останавливаться на достигнутом.
– А кто, позвольте узнать, будет наставником? Или – без него?
– Вы разве отказываетесь от меня?
– А разве со мной кто-то говорил об этом? Что ж, рваните…
Белова ступила в кабинет, по-школьному опустила руки.
– Это само собой разумелось. Но если отказываете… Я вас хорошо понимаю, Александр Иванович, в связи со вчерашним. Нынче такова жизнь…
– Не ожидал, не ожидал…
– А вы, Александр Иванович, извините, законсервировались. Вы едва ли не в прошлом веке.
– Оказывается, я плохо знал вас… Такая прогрессивная, а я не знал! Мне трудно будет с вами работать.
– Ясно… Но это уже ничего не изменит, Александр Иванович. Мы с мужем скоро переедем в столицу.
– В добрый путь!
В тот же день Белова передала со старшей лаборанткой Рудницкой заявление об уходе.
Через неделю майор Белов получил приказ: для дальнейшего продолжения службы – в Москву.
Прощались сухо, натянуто. Белова сказала:
– Мы с вами говорили о науке, о жизни… Вы, Александр Иванович, со своей домашней идеологией даже не заметите, как вас вышвырнут из наезженной колеи. Вам скоро шестьдесят пять. Каким бы замечательным… Каким бы великим специалистом… В Москве, может быть, как-то защитились бы, но – здесь… Подумайте об этом.
И Александр Иванович подумал: Белова еще не в Москве, а уже поучает. И ужаснулся. Какого ученого он подготовил? Впрочем, речь не о науке, речь о более важном. Мог ли он перевоспитать ее, даже если бы стояла такая цель?.. Для этого прежде всего надо было знать, что переделывать. А что он знал? Да и мог ли знать, коли она прошла неведомую для него школу?
А вот бюрократические законы он знал. Ровно в шестьдесят пять Александр Иванович подал прошение освободить его от заведования кафедрой. Ректор лепетал о том, что вам, глубокоуважаемый профессор, служить бы да служить отечественной науке, полноценной замены не сыскать, но таков порядок: в шестьдесят пять не допускается заведование кафедрой, а второго профессора у нас не полагается. Александр Иванович видел, с какой давно созревшей готовностью ректор написал на прошении: «Удовлетворить»…
Вот и все.
Чайная чашка была пуста. Вера тщательно укладывала свои бумаги. Такой была и на кафедре – аккуратной, скрупулезной. Хорошо работала, все были довольны, а – ушла.
– В чем дело? Что значит – из-за меня? – допытывался Александр Иванович.
– Вы не помните… После Беловой ни с кем из женщин кафедры вы нормально не разговаривали. Как говорится, рвали и метали. Такого Александра Ивановича я не выдержала, обидно было… За вас. Очень обидно!
Новая страница… О тех днях он почему-то не вспоминал. Ну, Белова ушла, была – и нет. Оказывается, следы еще оставались. Небось работники кафедры мучились: кто Белова профессору, любовница или – как там?..
– Александр Иванович, помните мою курсовую работу!
– Гм-м… Может, вспомню. Все курсовые невозможно запомнить.
– Вы тогда были еще доцентом, моим руководителем. Я написала на «отлично», старалась, вы сами выставили оценку. В этой курсовой вернули мою записку. Вы сказали тогда: назначение свидания к делу не относится, отдайте адресату.
– Так, так, припоминаю…
– А ведь записка была вам… у Михайловских часов, засветло, чтобы вы легко узнали меня. У вас уже тогда зрение было… не очень-то.
– Боже мой!.. – Александр Иванович засмеялся. – Еще чаю?
– Спасибо, хватит. После ухода с кафедры работала где придется. О незаконченной кандидатской диссертации старалась не вспоминать. И вот дождалась пенсии. Подрабатываю. У меня получается двойной оклад.
– Я очень доволен вашим визитом. Только, извините, вы обсчитались. Этак, знаете ли…
Вера покраснела. Она мучительно подбирала оправдание. Коротко взглядывая на Александра Ивановича.
– Нынче я богаче вас. Не обижайтесь… Куда мне одной столько!
Он ладонью стесал несколько денежных листков, двинул по столу.
– Об этом не станем рассуждать. Мне пенсии достаточно… Сегодня книги, знаете, какими дорогими стали?
– Зачем вам книги? Вы же не работаете.
– Как… зачем?!
Он взъерошился, будто вот-вот укажет на дверь, но взгляд его вскоре обвял, померк.
– Действительно, зачем… Не могу иначе! Вам, Верочка, мало этого? Не могу-у!..
– Извините, Александр Иванович, – Таким она знала его, таким, слава Богу, он и остался. – Только не повышайте голоса, я теперь никто для вас.
– Можно подумать, что именно я для кого-то что-то нынче представляю!
– Представляете… Я не случайно устроилась разносить… в вашем почтовом отделении. Я раньше была у вас, помните, – со всей кафедрой?.. Увидела вашу пенсионную карточку… Наконец-то!..
Она встала, по-воздушному легко и быстро, словно не прикасаясь, надела куртку.
– До свидания, Александр Иванович, – попрощалась, но все еще бесцельно топталась у порога, будто осматривая свои нелепые суконные ботинки.
Он не был готов к проводам, в голове – мешанина: «не уходите», «когда вас ждать в следующий раз», или – «всего доброго»… Ничего путного! Так и ушла, не услышав ни слова на прощание.
Слепец, крот в научной дыре!.. За столько лет не увидеть, не рассмотреть, не осознать!
Александр Иванович дергался, совался то в один угол комнаты, то в другой; без надобности осмотрел книжную полку с новыми поступлениями, отвернулся от них, и сразу исчезли из памяти, из глаз корешки иностранного золотого тиснения.
Тренькнул телефон. Конечно, она! Какая умница…
– Невропатолог с какого часа принимает?
Черт-те что!.. Это не в первый раз, часто ошибаются люди, он, может быть, всю жизнь ошибался; никто, ни разу не сказал ему, что вышел не на тот номер, какой уготовила судьба.
Итак, телефон… Небольшая красная машинка на тумбочке. Почта. Да, Вера Рудницкая здесь работает, но сегодня ее уже не будет. Адрес? Помялись с ответом. Кто спрашивает, зачем? Лишь после длительного уговора ее бывшего сослуживца, после объяснения, что все можно узнать в адресном бюро, но – время, знаете ли, драгоценное теряется время!..
А телефона нет. Александра Ивановича словно обидели: как это – без прямой связи, коли Рудницкая нужна немедленно?! Он же не попрощался по-человечески, он обязан многое сказать…
Александр Иванович взял чайную чашку, из которой только что Вера пила чай. Она была теплой. То ли от кипятка… Нет, все просто, чашка еще хранила тепло ее рук… Что делать? Но что-то надо делать!..
На глаза вновь попался раскрытый Шопенгауэр: «Тяжело было бы жить на свете, если бы не было собак, на честную морду которых можно смотреть с абсолютным доверием».
Ах, философ! Кто не знает, что кроме своей собаки вы ни к кому не были расположены с дружеской теплотой. Стоп, Александр Иванович!.. Подожди… Шопенгауэр – и собака, тут все понятно; он любил собак, а ты кого любишь? Неужели только себя? Не так это, если вспомнить ту же Белову!
Но почему кажется, что душа запечатана наглухо? Не такой уж ты холодный, каким можешь казаться, и не такой уж… «недосягаемый». Ишь, какая высота! Эверест! Монблан!.. Ясно, что не мальчишка, но и не до конца гнилая деревяшка на самом-то деле. Признайся – самому себе, не увиливай…
На базаре небритые, усатые, чернобровые богатыри с накалом нахальства в глазах окружили Александра Ивановича, наперебой втискивая ему цветы:
– Бери, дорогой, высший сорт!
– У меня – лучше! А пахнут как!.. Вай-вай…
– Розы, гражданин, розы! И не откуда-нибудь… из самой Турции!..
Александр Иванович, не торгуясь, выдал половину нынешней пенсий и пошел к автобусу. Светило солнце, прозрачная цветочная обертка сияла. Розы вольготно купались в солнечной неге. В автобусе он стоял рядом с кабиной водителя, возмущался бесчисленными остановками у светофоров; надо же – каждый из них при приближении начинал топорщиться огненно красной луной.
Наконец! Ну, наконец-то…
Дверь подъезда открыта, лестница чистая, даже праздничная от светлого песочного цвета недавно покрашенных стен. Звонок. Еще звонок.
Хозяйка открыла дверь, не спросив, кто там и зачем. На плечах – мягкий халат с разлапистыми маками, гладкие волосы на затылке перевязаны узкой шелковой синью. И – взгляд… Поначалу широко вспыхнуло удивление. Оно сменилось тут же скованной настороженностью:
– Проходите.
Он нерешительно топтался у порога – разуваться или нет?
– Проходите, пожалуйста!
В небольшой комнате с узким диваном, книжным шкафом, журнальным столиком и телевизором показалось тесно; Александр Иванович почувствовал, что загромоздил собою чужое жилище.
– Садитесь… пожалуйста… – Вера показала на диван рядом с собою. Александр Иванович щурился, привыкая к тусклому рассеянному свету. Когда четко проступила рука хозяйки, возбужденно перебиравшая край парусинового чехла на диване, когда комнату переполнило напряженное молчание, он протянул цветы:
– Это… вам.
– Мне-е?! По какому случаю? – тихо спросила она. Словно боясь спугнуть наконец-то прилетевшую неземную птаху.
– Просто… так, – выговорил ворчливо.
Руки ее сдавили прозрачную гремящую обертку, лицо мягко ушло в густой розовый запах. Плечи дрогнули.
– Боже мой!..
Неожиданно – слезы. Плотина прорвалась. Теперь ничто, никогда!.. Ничто не заставит сдерживаться; даже если молчать захотела бы – не получится.
Александр Иванович стоял растерянный и виноватый.
– Извините… Не хотел огорчать…
– Что вы-ы!.. Эти цветы я, может быть, ждала всю жизнь. А вы говорили… нынче ничего не представляете… Вот и верь вам…
Она вытерла слезы рукавом халата. Глаза ее смеялись, смотреть напрямую она еще не смела, но украдкой все-таки следила: когда же он сядет рядом?